Новороссийская трагедия происходила в течение нескольких дней. Главные события стали развертываться начиная с 12 марта.
День был серый, ветреный, дождливый. Город, куда со всех сторон стекались десятки тысяч голодных, измученных, озлобленных людей, находился уже в состоянии паники. На станции царили хаос и полная растерянность. Огромная, стоверстная вокзальная железнодорожная сеть была вплотную заполнена поездными составами, которые были свезены сюда в течение нескольких месяцев и теперь бросались со всем своим содержимым на произвол судьбы.
Паника разрасталась.
— Деникин и ставка, - сообщали прибывшим, -находятся у англичан, на пристани, что возле цементного завода. Там же и донской атаман. Никаких транспортных средств нет. Анапа у большевиков, Геленджик также. Все мы находимся в ловушке. Остается только бросаться в море...
К этому добавляли, что в городе находится много строевых частей, что между ними начинаются уже вооруженные столкновения за пароходы, которые в незначительном количестве стоят на рейде.

Вокзал быстро освобождался от всех, в нем находившихся. Каждый начинал думать только о том, как бы ему одному попасть на пароход, считая, что настал момент, когда начинает доминировать лозунг “Спасайся кто может”.
Все подозрительно следили друг за другом, боясь упустить удобный случай к погрузке.
В разговоре то и дело мелькала фраза:
— Дождались. Вот до чего довели...
Кто кого довел - об этом не говорили. В сущности каждый отлично понимал, что сейчас уже винить некого, а если кого и нужно винить, то в первую очередь необходимо начать с самих себя.
Характерно, что поисками виновников и попреками в их адрес казаки и рядовые чины Добровольческой армии почти не занимались. Казалось, что даже в этот момент они думают, как и раньше: “Мы вам доверились. Мы шли за вами туда, куда вы нас вели. Мы и сейчас верим, что так или иначе, а вы найдете выход из создавшегося положения...”.
Если принять во внимание всю кошмарную обстановку, то нужно признать, что строевые части не вышли из рук нерастерявшихся начальников даже в этот период.
Положение было действительно отчаянное, особенно после того, как было получено сообщение: “Для Донской армии имеется сорок пять мест на "Вальдеке Руссо". Все пароходы заняты ставкой для частей Добровольческого корпуса. Надежды на приход пароходов очень слабые. Англичане умыли руки”.
Побывавшие на пристанях рассказывали:
— Боже, что там творится! Народу - тьма... Все стремятся на пароходы, обрываются, падают в воду. Матери теряют детей, жены — мужей, братья — сестер. Ужас, ужас...
Самым спокойным местом в Новороссийске была территория цементного завода и находившаяся там пристань. В этом районе, обнесенном проволочными заграждениями, стояли поезда ставки с Деникиным во главе и поезд донского атамана. Хозяевами здесь были англичане, которых на весь Новороссийск было теперь не более батальона.
Здесь решалась судьба Донской армии.

Еще утром 12 марта, когда Сидорин прямо с бронепоезда (который был прислан Деникиным в Тоннельную), ехал на автомобиле к главнокомандующему, он, по его словам, обратил внимание на стоящие у пристани корабли, охраняемые караулами от различных дивизий Добровольческого корпуса. Обратил он также внимание на толпы военных перед этими кораблями, строящих баррикады, преграждая подступы к судам. Баррикады защищались пулеметами, охраняемыми часовыми. Все это его сильно обеспокоило.
В 8 часов утра командующий Донской армией прибыл к Деникину, подождал, пока он не встал, а затем вместе с главнокомандующим начал обсуждать положение сначала вдвоем, потом подошел начальник штаба генерал Романовский.
— Обстановка, как вы видите, - заявил Деникин, - складывается трагическая. Противник находится около Абрау-Дюрсо. Части отходят почти что без боев. Нужно ждать катастрофы. Необходимо заботиться сейчас только о том, чтобы вывезти командный состав, офицеров и тех, кому угрожает наибольшая опасность. Раненых и больных придется оставить. Скажите, сколько у вас в Донской армии офицеров?
— Около пяти тысяч человек, - ответил Сидорин. - Их нужно во что бы то ни стало вывезти.
— Это, пожалуй, удастся, - заметил Деникин. - Все части, конечно, погружены быть не могут.
— Но почему же пароходы занимаются одними добровольцами? - воскликнул Сидорин.
— Ничего подобного, - возразил Деникин.
— Но я сам видел, что происходит на пристанях: пароходы захватываются добровольцами...
— Нет, ничего подобного не будет. Все пароходы будут распределены равномерно, - утверждает главнокомандующий.
Только что Сидорин вышел из вагона Деникина, как его встретила донская миссия: генерал Майдель, два генерала братья Калиновские и полковник Добрынин. Миссия имела наряд на перевозку почти ста тысяч человек, считая пятьдесят тысяч строевых и около пятидесяти тысяч беженцев. Инспектор донской артиллерии генерал Майдель заявил Сидорину:
— Все суда, которые имеются в Новороссийске и которые прибывают, поступают в распоряжение Кутепова. Каждая дивизия Добровольческого корпуса имеет свои собственные пароходы, которые уже и заняты соответствующими караулами. Имеются еще и пароходы, находящиеся в распоряжении Кутепова, охраняемые караулами и незанятые частями. Для Донской армии не предоставлено ни одного судна. Правда, с часу на час ожидается прибытие новых пароходов.
— До глубины души я был возмущен, - рассказывает Сидорин, - тем, что все происходившее тщательно скрывалось. Скрывалась боевая обстановка, чтобы мы не проделали того, что делал Кутепов...
Тем временем в Новороссийск прибыл поезд со штабом Донской армии. Сидорин и Кельчевский, сильно обеспокоенные и возмущенные всем происходившим, пошли к главнокомандующему. Оба они считали, что все происходящее является форменным предательством в отношении Донской армии. К ним вышел генерал Романовский, на которого оба представителя Донской армии обрушились с упреками, обвиняя ставку в предательстве. Генералу Романовскому был ребром поставлен роковой для донцов вопрос:
— Какие же корабли будут предоставлены для Донской армии?
— Корабли вовремя прибудут, Владимир Ильич, они ожидаются с часу на час, - успокаивал Сидорина Романовский.
— Почему же так много судов предоставлено добровольцам? - говорили Сидорин и Кельчевский, показывая список кораблей, находившихся на рейде.
Романовский тогда указал, что уже и сейчас для Донской армии имеется сорок пять мест на “Вальдеке Руссо”.
— Представленный вами список распределения судов не соответствует действительности, - говорил он.
— Но на какие же суда, которые, по вашим словам, прибудут, мы можем рассчитывать?
— Вы не беспокойтесь: все устроится. Прибудет “Россия”, прибудут и другие пароходы, - пытался успокоить своих собеседников Романовский.
— Я - командующий армией и не могу не беспокоиться, - возмутился Сидорин. - Почему вы нас обо всем этом не предупредили? Сейчас уже поздно. Сейчас ничего уже изменить нельзя. Нельзя изменить и направление движения армии.
В таком же резком тоне говорил Сидорин и с Деникиным. Особенно резкий разговор вышел за обедом, в поезде донского атамана, где Сидорин прямо назвал предательством поведение главного командования в отношении Донской армии. Деникин возмутился, не закончив обеда, встал из-за стола и ушел в свой поезд. После новых переговоров Деникин заявил, что в 6 часов вечера будет происходить заседание особой комиссии по вопросу о распределении транспортных средств между различными частями.
На этом заседании полностью выяснилось, что все пароходы заняты добровольческими частями, причем для донцов предоставлялись лишь пароходы “Россия”, “Аю-Даг” и “Дооб”. “Россия” уже пришла и была перехвачена донскими казаками. “Дооб” был занят командующим Кубанской армией генералом Улагаем со своими частями. “Аю-Даг” был занят генералом Кутеповым. Этот пароход не достался донцам, несмотря на настояния Сидорина перед Деникиным, который неизменно отвечал:
— Я сделал распоряжение, и вы этот пароход получите.
Таким образом, донцам была предоставлена одна “Россия”, на которую погрузилось около четырех тысяч. Пароход загрузили до крайних пределов, так что он совсем накренился в одну сторону.
Уже наступал вечер. Ветер затих. Было сумрачно. По небу ползли непроницаемые клубы тумана, который окутывал сплошным покровом горный кряж, отвесной стеной окружавший котловину, где был расположен мятущийся в панике, клокочущий от людского моря Новороссийск.
Ночь с 12 на 13 марта мне пришлось провести на английской пристани у цементного завода... Темнело. Из города доносился глухой рокот, точно шум морского прибоя. Звонил колокол на английском пароходе. Торопливо проходили хладнокровные, спокойные англичане, которые грузили на пароходы склады с различным имуществом. Что им до нас?..
Лавина беженцев уже докатилась до Новороссийска. Несмотря ни на какие кордоны и заграждения, калмыки первыми бросились к морю. Даже на английской пристани можно было наблюдать душераздирающую картину, когда группа верховых калмыков, имея впереди калмычку с двумя ребятами на руках верхом на неоседланной лошади с болтающимися постромками, подъехала к морю. Здесь стоял английский гигант “Ганновер”. Калмыки остановились, потом послезали с лошадей и стали, молча с мольбой глядя на пароход. Оборванные, в грязных пестрых лохмотьях, калмыки всем своим видом свидетельствовали о пройденном ими тяжелом тысячеверстном крестном пути. Эти наивные, добродушные дети донских и астраханских степей слышали, что в Новороссийске есть пароходы, на которых можно уйти от беспощадного, как они думали, для них врага, а потому прямо поехали к морю. Их, конечно, быстро удалили.
Засыпая на пристани, я слышал тихий разговор двух командиров полков. Речь шла о том, как отбить пароход и погрузиться на него.
— Иначе погибнем, - говорил один командир полка другому. - Начальство растерялось, да и ничего оно сейчас не может сделать. Каждый думает только о себе...
Затем они, тихо переговариваясь, начали вырабатывать план атаки и защиты захваченного парохода.
Положение остатков Вооруженных Сил на Юге России, сосредоточивавшихся в Новороссийске, казалось трагически безвыходным. По последним сведениям, Новороссийск был уже как будто бы окружен большевиками со всех сторон. Уже поступили сведения, котировавшиеся как официальные, что Туапсе отрезано конницей Буденного; Сочи находится в руках не то красных, не то “зеленых”; Анапа и Геленджик заняты большевиками. Тем не менее, несмотря на безвыходность положения, у всех почему-то была твердая уверенность, что в конце концов как-нибудь удастся погрузиться на пароходы. Все отгоняли от себя мысль о возможности другого исхода. Пароходы должны прийти, они придут... Но здесь же возникали опасения, как бы на эти пароходы не ринулась толпа озверевших людей, как бы не разыгралась страшная катастрофа, когда и при наличии пароходов нельзя будет на них погрузиться.
Вопрос о погрузке сильно беспокоил командный состав, и эта тяжелая, неблагодарная задача в Донской армии была возложена на одного из наиболее энергичных представителей командного состава - генерала Карпова. Англичане также приняли ряд предосторожностей: приготовили танки, пулеметы и с утра расставили на путях к пристани усиленные караулы.
На рассвете 13 марта штаб Донской армии получил из ставки приказание выдвинуть на фронт учебную бригаду, состоявшую из юнкеров, пулеметчиков и стрелков, находившуюся под командой генерала Карпова. Так как в силу целого ряда условий на учебную бригаду нельзя было возложить выполнение этой задачи, то таковая была возложена на Донскую Сводно-партизанскую дивизию.
Фактически в это время - как утверждают представители донского командования - добровольческие части на фронте почти не дрались и все отходили и грузились, так что погрузка охранялась почти исключительно донскими частями.
С раннего утра 13 марта дороги к пристаням были покрыты сплошным потоком людей и лошадей. На лицах у всех было беспокойство и страх. У всех в голове вертелся неотвязчивый вопрос: можно ли будет попасть на пароход? Никто в этом не был уверен, так как с таким нетерпением ожидавшиеся пароходы все еще не прибыли.
Отсутствовала и надежда на помощь англичан, которые, казалось, ко всем относятся в общем корректно, но с леденящим равнодушием. По-видимому, они считали, что миссия их на юге России заканчивается и что им ничего другого не остается, как уезжать к себе на родину. Представителям Антанты чуждо и непонятно было все происходившее. Отдельные английские офицеры в разговорах с русскими офицерами прямо высказывали свое недоумение по поводу того, что они видели: “Почему вы бежите? Почему такие огромные силы не могут удержать самой природой укрепленного, в сущности неприступного Новороссийска?”.
Что им можно было на это ответить? Как англичане могли понять психологические переживания отступавших, когда сами отступавшие не могли уяснить себе смысла того, что происходило, и в частности своего душевного состояния. Все чувствовали, что они не могут уже бороться, что опустились руки, что надвигается фатальный, как казалось, неизбежный конец двухлетней борьбы. Бесконечная усталость от мировой и Гражданской войн переплеталась с чувством горькой обиды и разочарования в том, что в борьбе жертвы были напрасны, что окончательная победа над большевиками, в чем раньше все были уверены, превратилась в катастрофическое поражение. Здесь было и сознание того, что все к лучшему и, быть может, для нас самих же выгодна победа большевиков, которая окажется для них пирровой победой. Целый ряд причин, одним словом, создавали такое психологическое настроение, при котором совершенно нельзя было рассчитывать на боевую стойкость частей.
В городе шел погром. Громили магазины, громили и расхищали громадные склады с продовольствием и английским обмундированием, которые за недостатком времени и пароходов нельзя было эвакуировать. По улицам валялись ящики с консервами, кожаные куртки, шинели... Всюду рыскала местная беднота, стараясь утащить домой все, что можно было.
Время шло. С каждым часом сгущалась атмосфера. Перед пристанью бушевал людской поток, угрожая снести все и английские, и русские караулы. Заволновались и англичане. Тяжело пыхтя, с грохотом на поддержку караульной цепи выполз огромный танк, который наставил на толпу грозные дула своих пулеметов, готовый каждую минуту пустить их в дело... Загрохотало одно, другое, третье орудие. То были первые выстрелы английской эскадры, стоявшей на рейде. Эти выстрелы сделаны были лишь для успокоения толпы.
Огромная масса людей глухо волновалась. Казалось, что вот-вот плотина, отделявшая пристань от людского моря, будет разрушена и тогда произойдет нечто ужасное. Но опасения эти были преувеличены. Части Добровольческого корпуса были уже в массе погружены. Что же касается донцов, то казаки оказались в этот критический момент достаточно дисциплинированными, чтобы исполнять приказания тех, кто под руководством генерала Карпова занимался погрузкой. Даже и здесь солдаты и казаки оказались более выдержанными, чем офицеры. Правда, в Новороссийске это в значительной мере объяснялось тем, что оставшемуся офицеру грозили суровые репрессии от большевиков, а казаки и солдаты могли рассчитывать на лучшее.
А ставка и штаб Донской армии переживали свою трагедию.
13 марта Деникин по настоянию Сидорина выдал ему записку, согласно которой все приходящие суда предназначались исключительно для Донской армии. Копии этой записки были выданы Сидориным командирам корпусов с приказанием немедленно захватывать все приходящие суда... Однако пароходов прибывало очень мало. Но, несмотря на приказ Деникина, даже вновь приходящие суда продолжали захватываться добровольцами. Так, например, принадлежавший Парамонову донской пароход “Дунай” был перехвачен Кутеповым, который посадил числившихся в Добровольческом корпусе лейб-казаков вместо 18-го Донского полка, который должен был на этот пароход погрузиться.
Видя все это, Сидорин стал настаивать перед главнокомандующим, чтобы погрузка частей была прекращена, пароходы были предоставлены для раненых, семей офицеров, для ценностей и чтобы частям двигаться вдоль черноморского побережья и пробиваться на юг, так как он был убежден, что Геленджик уже занят красными.
— Хорошо, хорошо, - отвечали, по словам Сидорина, Деникин и Романовский, видимо, желавшие только поскорее отделаться от донцов, так как заставить идти добровольцев на юг, как предлагал Сидорин, - об этом и речи не могло быть. Вообще они находились в полной прострации. Никто не заглядывал на берег, не отдавал никаких распоряжений. Они жили в своем поезде на цементном заводе под охраной английских часовых.
В это время далеко не все донские части подошли к Новороссийску. Многие из них оставались на позициях. Но и у тех, которые подходили, не было никаких моральных сил, чтобы двигаться на Геленджик. Не было к этому фактической возможности, так как вся дорога была забита беженцами, завалена телегами, разным скарбом. Нельзя было провезти ни артиллерии, ни чего-либо другого. Это были, в сущности, утопические мечтания. Если это и было возможно, то только при том условии, что и добровольцы пойдут по этой же перерезанной большевиками дороге.
В этот день Сидорин вместе с начальником штаба и донским атаманом несколько раз были у Деникина, но, кроме бессодержательных ответов вроде: “Неужели вы думаете, что можно было бы всем погрузиться?”, других ответов не было. Во время этих разговоров Деникин, между прочим, заявил Сидорину:
— Вы же сами сказали, что вам нужно перевезти всего пять тысяч человек.
На это Сидорин ответил:
— Я говорил только о пяти тысячах офицеров. Тогда их было такое количество. Общее же количество нуждавшихся в перевозке, как видно из известного вам наряда, данного донской миссией, доходит до ста тысяч человек.
И снова видно было, что ставка чувствовала себя в состоянии полной растерянности, не отдавала никаких распоряжений и предоставила все фатальному течению событий.
Новороссийск агонизировал. Общая картина, которую я наблюдал примерно в первом часу дня на пристани у цементного завода, никогда, вероятно, у меня не изгладится из памяти. Прямо перед пристанью стоял огромный “Ганновер”, на который грузились англичане. Цепь из английских солдат охраняла “Ганновер”. С хладнокровным спокойствием наблюдали англичане за тем, что творилось на пристани, и не пропускали, несмотря на всякие резоны, к пароходу никого, кроме англичан. За английской цепью расположились поезда с учреждениями ставки, поезд донского атамана, всевозможные штабы и учреждения Донской армии, отдельные, проскользнувшие за стоявший впереди кордон, лица. Здесь были навалены горы вещей, винтовки, сумки, седла. Все стараются казаться спокойными, но это плохо удается... Здесь же англичане, погрузив часть складов, раздают желающим то, что нельзя было погрузить. Здесь же идет и распродажа вещей, которой занимаются и русские, и англичане. Возле наших цепей - бесконечная толпа. Все рвутся вперед. Жены теряют мужей. Плачут дети, потерявшие родителей. Бьются в истерике женщины. Здесь все думают об одном: о своем спасении. На этой почве разыгрываются тяжелые сцены.
Вот, например, сквозь кордон прорывается на пристань офицер, умоляющий всех и каждого взять его на пароход.
— Жену потерял в городе, детей потерял, - рыдает он. - Что мне делать? Господи, Господи, какой кошмар, какой ужас...
— За пароходы идет бой, - сообщают прибывшие с других пристаней. С пароходов сбрасывают друг друга в море...
— Ни одной лошади, ни одного лишнего человека, - отдают распоряжение англичане.
Казаки расседлывают лошадей. Это была тяжелая картина. Казак, который с детства привык к своей лошади, который сжился с нею, как с лучшим другом и товарищем, должен был теперь бросать эту лошадь на произвол судьбы. Со слезами на глазах расседлывали казаки коней, выгоняли между вагонами в город, где тысячные табуны уже бродили с утра. Лошади жалобно ржали и снова возвращались к морю. По городу метались черкесы, которые ловили лучших скакунов, переседлывали их и с диким гиканьем носились по улицам.
Редкие выстрелы из английских орудий от времени до времени покрывали собою шум и гул толпы, скопившейся на пристанях.
Часа в 3 дня в донской штаб прибыл генерал Коноводов27, который сообщил, что его дивизия, состоявшая из лучших донских частей (гундоровцев, луганцев и других), дерется к востоку от Тоннельной у станицы Наберджановской вместе с Алексеевской дивизией Добровольческого корпуса... Алексеевцы, как выяснилось, были атакованы красными, которые начали кричать им:
— Зачем деретесь, дело ваше проиграно, сдавайтесь!..
Дивизия рассеялась, побросав оружие. Часть алексеевцев направилась в Новороссийск. Один полк сдался целиком. Несмотря на это, Коноводов доложил, что настроение в частях хорошее и он ручается, что удержит за собой позиции. Но казаки все же волнуются и заявляют:
— Все идут в Новороссийск, а нас бросают...
Тогда Сидорин обратился к донскому атаману Богаевскому и сказал ему:
— Я не могу больше разговаривать с Деникиным. Вы сами видите, что я нахожусь в состоянии самого глубокого возмущения. Я прошу вас вместе с Кельчевским пройти к Деникину и спросить его, перевезут ли те части, которые дерутся, или нет.
Им ответили, что эти части могут взять первый пароход для эвакуации. Коноводов уехал...
Таким образом, фактически к вечеру 13 марта на фронте, как утверждают представители донского командования, находились донские части, а именно: 8-я дивизия, 6-я дивизия, 1-я конная бригада, Сводно-партизанская дивизия. В распоряжении генерала Кутепова находилась также 1-я казачья дивизия, часть которой, именно Лейб-казачий полк, была погружена на пароход. У Добровольческого корпуса фактически оставались на фронте только часть из Корниловской дивизии и полк дроздовцев.
В этот день Сидорин вместе с начальником штаба и донским атаманом несколько раз были у Деникина, но, кроме бессодержательных ответов вроде: “Неужели вы думаете, что можно было бы всем погрузиться?”, других ответов не было. Во время этих разговоров Деникин, между прочим, заявил Сидорину:
— Вы же сами сказали, что вам нужно перевезти всего пять тысяч человек.
На это Сидорин ответил:
— Я говорил только о пяти тысячах офицеров. Тогда их было такое количество. Общее же количество нуждавшихся в перевозке, как видно из известного вам наряда, данного донской миссией, доходит до ста тысяч человек.
И снова видно было, что ставка чувствовала себя в состоянии полной растерянности, не отдавала никаких распоряжений и предоставила все фатальному течению событий.
Новороссийск агонизировал. Общая картина, которую я наблюдал примерно в первом часу дня на пристани у цементного завода, никогда, вероятно, у меня не изгладится из памяти. Прямо перед пристанью стоял огромный “Ганновер”, на который грузились англичане. Цепь из английских солдат охраняла “Ганновер”. С хладнокровным спокойствием наблюдали англичане за тем, что творилось на пристани, и не пропускали, несмотря на всякие резоны, к пароходу никого, кроме англичан. За английской цепью расположились поезда с учреждениями ставки, поезд донского атамана, всевозможные штабы и учреждения Донской армии, отдельные, проскользнувшие за стоявший впереди кордон, лица. Здесь были навалены горы вещей, винтовки, сумки, седла. Все стараются казаться спокойными, но это плохо удается... Здесь же англичане, погрузив часть складов, раздают желающим то, что нельзя было погрузить. Здесь же идет и распродажа вещей, которой занимаются и русские, и англичане. Возле наших цепей - бесконечная толпа. Все рвутся вперед. Жены теряют мужей. Плачут дети, потерявшие родителей. Бьются в истерике женщины. Здесь все думают об одном: о своем спасении. На этой почве разыгрываются тяжелые сцены.
Вот, например, сквозь кордон прорывается на пристань офицер, умоляющий всех и каждого взять его на пароход.
— Жену потерял в городе, детей потерял, - рыдает он. - Что мне делать? Господи, Господи, какой кошмар, какой ужас...
— За пароходы идет бой, - сообщают прибывшие с других пристаней. С пароходов сбрасывают друг друга в море...
— Ни одной лошади, ни одного лишнего человека, - отдают распоряжение англичане.
Казаки расседлывают лошадей. Это была тяжелая картина. Казак, который с детства привык к своей лошади, который сжился с нею, как с лучшим другом и товарищем, должен был теперь бросать эту лошадь на произвол судьбы. Со слезами на глазах расседлывали казаки коней, выгоняли между вагонами в город, где тысячные табуны уже бродили с утра. Лошади жалобно ржали и снова возвращались к морю. По городу метались черкесы, которые ловили лучших скакунов, переседлывали их и с диким гиканьем носились по улицам.
Редкие выстрелы из английских орудий от времени до времени покрывали собою шум и гул толпы, скопившейся на пристанях.
Часа в 3 дня в донской штаб прибыл генерал Коноводов27, который сообщил, что его дивизия, состоявшая из лучших донских частей (гундоровцев, луганцев и других), дерется к востоку от Тоннельной у станицы Наберджановской вместе с Алексеевской дивизией Добровольческого корпуса... Алексеевцы, как выяснилось, были атакованы красными, которые начали кричать им:
— Зачем деретесь, дело ваше проиграно, сдавайтесь!..
Дивизия рассеялась, побросав оружие. Часть алексеевцев направилась в Новороссийск. Один полк сдался целиком. Несмотря на это, Коноводов доложил, что настроение в частях хорошее и он ручается, что удержит за собой позиции. Но казаки все же волнуются и заявляют:
— Все идут в Новороссийск, а нас бросают...
Тогда Сидорин обратился к донскому атаману Богаевскому и сказал ему:
— Я не могу больше разговаривать с Деникиным. Вы сами видите, что я нахожусь в состоянии самого глубокого возмущения. Я прошу вас вместе с Кельчевским пройти к Деникину и спросить его, перевезут ли те части, которые дерутся, или нет.
Им ответили, что эти части могут взять первый пароход для эвакуации. Коноводов уехал...
Таким образом, фактически к вечеру 13 марта на фронте, как утверждают представители донского командования, находились донские части, а именно: 8-я дивизия, 6-я дивизия, 1-я конная бригада, Сводно-партизанская дивизия. В распоряжении генерала Кутепова находилась также 1-я казачья дивизия, часть которой, именно Лейб-казачий полк, была погружена на пароход. У Добровольческого корпуса фактически оставались на фронте только часть из Корниловской дивизии и полк дроздовцев.
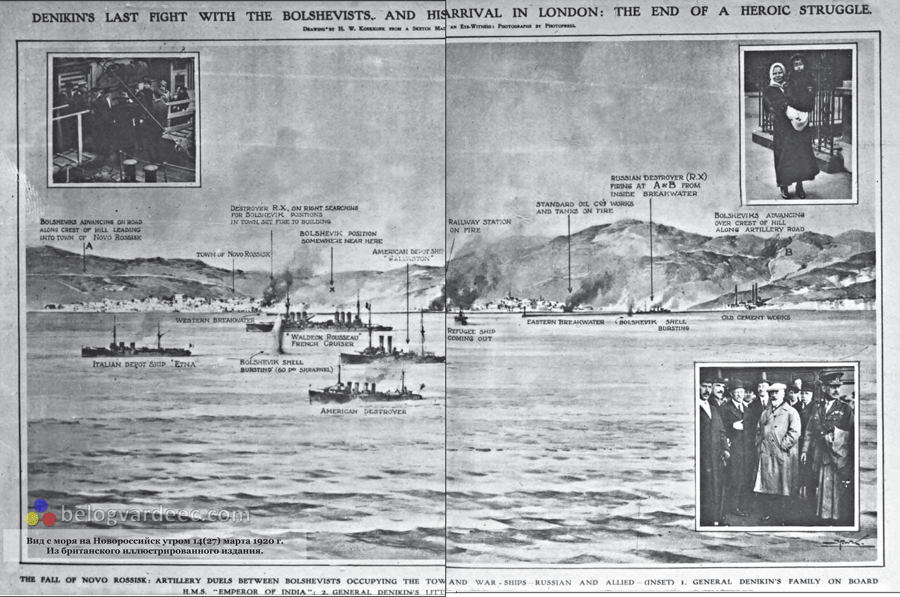
Сгущается туман, окутывающий непроницаемым облаком вершины гор... Постепенно опускается он все ниже и ниже... Апатичное спокойствие и слепая покорность судьбе начинает преобладать у многих над всеми другими ощущениями...
Казаки, ожидающие погрузки, никак не могут примириться с потерей лошадей.
— Четырех коней оставил, — со слезами рассказывает старый казак.
— Господи, твоя воля, что теперь будем делать...
— Ну, какая мы пехота... Тащим седла... Что же, мы себя самих седлать будем?
С других пристаней доходили все новые и новые слухи о душераздирающих картинах, которые можно там было наблюдать.
— Здесь порядок, - рассказывали очевидцы. - Здесь англичане, танки... а там наши... и никакого порядка нет. Озверели все...
Выясняется, что сейчас начинается погрузка на огромный итальянский, зафрахтованный главным командованием, пароход “Барон Бек”.
Проходят на пароход больные и раненые. Затем начинают проходить к пристани через рогатки и караулы штабы и отдельные воинские части. Строжайший контроль проверяет всех проходящих. Одиночным людям, не принадлежащим к составу частей и учреждений, приходится плохо. Они мечутся, умоляют взять их... Перед пароходом выстраивается огромная очередь. Погрузкой лично руководят начальник английской миссии генерал Хольман и генерал Карпов. Погрузка поэтому проходит в образцовом порядке. Видя перед собою огромное количество людей, англичане решают, что седла нужно бросить на берегу. С каким-то остервенением с размаху отбрасывали седла в сторону казаки. А многие тут же бросали и свои вещи.
— Все пропадай, - говорили они.
Наконец и я очутился на борту парохода. Все отдуваются, испытывая невероятное облегчение после пережитого кошмара. Уже с любопытством начинают наблюдать за тем, что происходит на пристани.
Выглянуло солнце. Вершины гор, окружающих бухту, покрыты сплошными клубами густого тумана. На рейде стоят нарядные английские суда. Вдали видны перегруженные до последних пределов корабли.
— Почему они не стреляют? Ведь большевики возле города, - слышатся недоумевающие возгласы.
Глухо волнуются оставшиеся на берегу. Погрузка уже прекратилась. Прямо к толпе подползает танк и загораживает дорогу к пристани.
Что должны переживать остающиеся? Придет ли еще пароход...
Одна-другая пуля прожужжала над палубой.
— Я думал, что хуже будет. А вдруг наши же окатят пароход из пулемета, - смеется кто-то.
— Смотрите на дорогу, - перебивает стоящий рядом со мною генерал Калиновский, - какие большие отряды все идут и идут на юг!
— Уезжают тыловые части, штабы, а строевые части остаются и идут на Геленджик, - констатируют кругом.
Снова выстрелы.
— В чем дело?
— Казаки сами пристреливают лошадей...
— Какой кошмар! Сколько богатства остается...
— Седла бросают... - шепчут казаки.
— Смотрите, как разбегаются кони...
— Ну, разбежаться не успеют, как их заберут чеченцы. Прямо подскакивают и выхватывают лошадей из рук.
Пароход отваливает от пристани. Казаки крестились. У многих на глазах стояли слезы.
— Гибнет Дон, - слышу чей-то тихий шепот.
— Вы знаете, - рассказывал мне Калиновский, - что, когда мы явились к главнокомандующему, указывая на наше безвыходное положение, так как все пароходы захвачены добровольцами, Деникин, который принял нас очень хорошо, пожал плечами и сказал: “Господа! Разве справедливо было бы, если бы те, которые сражаются, в данном случае добровольцы, защищали бы посадку тех, которые не желают сражаться...”.
А кто же и как в это время сражался на фронте?
Я не имел возможности по этому поводу беседовать с генералом Кутеповым, который должен был руководить обороной Новороссийска... Но в моем распоряжении имеется официальный документ, который, по-видимому, с исчерпывающей полнотой отвечает на поставленный вопрос и довольно детально обрисовывает, в какой обстановке происходила сдача Новороссийска. Это рапорт начальника Донской партизанской дивизии полковника генерального штаба Ясевича.
Сводно-партизанская дивизия, находившаяся с 10 марта в арьергарде Донской армии, сохраняя боеспособность, успешно прошла через зону “зеленых”, со станции Тоннельной двинулась через перевал и 12 марта расположилась в районе разъезда Гайдук. Здесь начальник дивизии впервые ознакомился с обстановкой и узнал о наступлении большевиков от Раевской, о занятии ими Абрау-Дюрсо и деревни Борисовки, находившейся уже в тылу у дивизии. Узнал он здесь также и о том, что его дивизия подчинена генералу Кутепову.
Утром 13 марта с 11 часов Ясевич предполагал атаковать большевиков и занять деревню Борисовку. Во время приготовления к этой операции к железной дороге подошли незначительные части Корниловской дивизии, начальник штаба которой прибыл в деревню Кирилловку.
Не имея точного представления об обстановке, Ясевич послал Кутепову донесение и просил точно узнать задачу и соседей справа и слева, равным образом ориентировать в вопросе об эвакуации в Новороссийске и посадке Донской партизанской дивизии на суда.
— Никакого ответа от генерала Кутепова, - сообщает Ясевич, - я не получил, несмотря на факт получения моего донесения, подтвержденный Кутеповым же мне лично при свидании с ним, происшедшем позже. Неоднократные попытки узнать о предстоящих действиях Корниловской дивизии не привели ни к чему. Я получил лишь бессмысленное напоминание о том, что все части, которые примут участие в бою, будут погружены на суда, что, конечно, усугубляло общую неразбериху.
Ясевич тогда пригласил для выработки общего плана действий начальника штаба Корниловской дивизии28, находившегося в одной деревне с ним, но получил ответ, что ему некогда. Тогда Ясевич послал к нему временно исполнявшего должность начальника штаба дивизии капитана Карева.
— Последний, - рассказывает Ясевич, - вернулся оттуда крайне возмущенным и просил меня разрешить ему сделать доклад конфиденциально. Он доложил мне, что начальник штаба Корниловской дивизии, лично хорошо ему знакомый, по-товарищески сообщил, что почти вся дивизия их ушла грузиться и сейчас снимаются последние заставы, что погрузка всех частей назначена на сегодня, то есть 13 марта, когда состоится и выход судов в Крым. Также по-товарищески он советовал Кареву и дивизии немедленно идти вместе с Корниловской дивизией и грузиться, где останутся места.
“Таким образом, - пишет Ясевич, - картина обмана и предательства стала ясной. Я собрал командиров полков и ознакомил их с положением. После короткого обмена мнений решено было вести полки и грузить, где будет возможно. Затем я поехал в Мефодиевку, где стоял мой штаб, отдав распоряжение о движении головной части дивизии на Новороссийск на Эстакадную пристань под командой полковника Абрамова. После этого, взяв с собой начальника штаба капитана Смирнова и нескольких казаков и офицеров из штабов полков, отправился к генералу Кутепову. Кутепов сообщил мне, что получил мое донесение и знал о действиях дивизии, но что никаких транспортных средств для дивизии не имеется, ибо даже больные и часть Добровольческого корпуса не могут быть погружены полностью. Почти одновременно посланному в штаб Донской армии моему начальнику штаба капитану Смирнову генерал Кислов заявил, что никаких распоряжений Сводно-партизанская дивизия от начальника штаба Донской армии не получит, ибо дивизия передана в Добровольческий корпус, от коего она должна получать указания. Я обратился тогда по телефону к генерал-квартирмейстеру ставки Махрову и просил помощи, напомнив, что дивизия является прекрасной и твердой частью, дошедшей в порядке последней. Генерал Махров дрожащим голосом объявил, что ничего сделать не может, потому что судов нет, так как погрузка произошла гораздо раньше, чем было предложено планом эвакуации. Я возвратился снова к генералу Кутепову, который посоветовал мне обратиться к начальнику Корниловской дивизии, у которой, быть может, найдутся места и что, быть может, ночью подойдет транспорт за моей дивизией. С невероятным трудом удалось добраться мне и офицерам до исполняющего должность начальника Корниловской дивизии полковника Грузинова, до парохода "Корнилов", причем пришлось бросить лошадей. На пароход пустили лишь меня с начальником штаба и ординарцем. Начальник Корниловской дивизии заявил, что, может быть, после погрузки останутся места, и просил подождать выяснения этого вопроса. Около 6 часов вечера выяснилось, что у пристани еще остались корниловцы, что толпа перед пароходом до того уплотнилась, что пробиться к судну не было никакой возможности Еще меньше возможности было пробиться назад, ввиду чего мне пришлось остаться на пароходе и в довершение всех испытаний оказаться фактически бросившим свою дивизию начальником дивизии.
Однако у меня все же была надежда, что дивизия находится где-либо на одной из пристаней, тем более, что ночью подошел какой-то большой транспорт. Моих офицеров, ожидавших погрузки, взяли, в конце концов, на борт под град оскорблений, и то не всех. Потоки площадной брани, расправы плетьми, сбрасывание с борта всех, кто не корниловец, - вот атмосфера, в которой происходила погрузка Корниловской дивизии. Недопустимей всех вел себя командир 1-го полка полковник Гордеенко29, сбросивший в море трех офицеров и одного лично ударивший прикладом по голове...”
Пока разыгрывались все эти события, взаимоотношения ставки и представителей Донского командования обострились до последних пределов.
Около 5 часов вечера Сидорин снова был у главнокомандующего, чтобы получить у него обещанный пароход “Аю-Даг”. Деникин сказал, что пароход очищен и предоставлен донцам, чего фактически не было. Затем Деникин успокоил Сидорина, заявив, что он получил от Кутепова донесение о том, что он, Кутепов, рассчитывает продержаться и 14 марта и тогда все будут перевезены. Сидорин успокоился.
— Каково же было мое изумление, - рассказывает он, - когда посланный между семью и восемью часами вечера в штаб главнокомандующего для получения ориентировки офицер доложил мне, что поезд Деникина очищен и что все в нем находившиеся чины перегрузились на пароход “Цесаревич Георгий”, а сам главнокомандующий ушел на пристань, где стоят английские миноносцы. Узнав об этом, я до крайности возмутился тем, что, после того как в пять часов я слышал, будто 14 марта фронт у Новороссийска предполагают держать, в семь с половиною штаб был уже погружен и сам главнокомандующий ушел на миноносец. Я был в это время в вагоне атамана. Возмущенный до глубины души всем происходившим, я отправился на пристань к генералу Деникину и решил про себя, что если не добьюсь правды, не добьюсь вполне определенного решения относительно перевозки донцов, не добьюсь, чтобы их посадили, в крайнем случае, на военные суда английские и русские, то для меня другого исхода не осталось, как застрелить Деникина, о чем я и заявил по дороге сопровождавшему меня генералу Карпову.
Сидорин и Карпов долго разыскивали Деникина, пока не встретили его возвращающимся с какого-то английского миноносца вместе с начальником английской военной миссии генералом Хольманом и Романовским. К командующему армией в это время подошел генерал Дьяков30, начальник 1-й Донской дивизии, заявляя, что его водили за нос, когда говорили, что дивизия будет погружена (в присутствии Сидорина это подтверждал главнокомандующий). Вместе с Дьяковым командующий подошел к главнокомандующему и в самой резкой форме спросил его:
— Вы мне сказали, что завтрашний день Кутепов будет держаться. Сейчас мои начальники донесли мне, что все добровольческие части отошли и к десяти часам вечера Новороссийск будет оставлен. Что же все это означает?
— Я говорил на основании заявления Кутепова, - ответил Деникин, - сейчас я еще не знаю, в чем дело, и поеду к нему выяснить обстановку (Кутепов в это время находился на миноносце).
— Будет ли перевезена Первая дивизия? – задал вопрос Сидорин. - Этой дивизии неоднократно сообщали о том, что перевозка состоится, и в моем присутствии ей гарантировали, что она будет во что бы то ни стало перевезена.
— Я никому ничего не гарантировал, - возразил Деникин. - Если части не желают драться, перевезти никого нельзя.
Сидорин, находясь в крайне возбужденном состоянии, не обращая внимания на присутствие генерала Хольмана, обращаясь к Деникину, крикнул:
— Однако вы перевезли все части Добровольческого корпуса, а все донские части бросили! Вы предали их...
Обращаясь затем к Дьякову, он заявил:
— Вы видите, что вас обманули, что вам ничего другого не остается, как пробиться к Геленджику.
Дьяков на это ответил:
— Если пробиваться, то это сейчас нужно делать...
— Вы слышали мой разговор с этим генералом, - указывая на Деникина, продолжал Сидорин. - Вы видите, что я бессилен что-нибудь сделать с ним. Нас предали. Конечно, сейчас же садитесь на коней и уезжайте.
Генерал Дьяков со своей дивизией отправился на Геленджик.

Между тем Хольман, видя, в каком состоянии находится Сидорин, подошел к нему и стал успокаивать, говоря:
— Разве так можно говорить с главнокомандующим?
— Разве можно поступать так бесчестно, как поступили с нами? - возразил Сидорин.
Хольман продолжал успокаивать, причем заявил:
— Мы все сделаем, чтобы перевезти донцов.
Трудно сейчас воспроизвести и передать дословно ту сцену, которая происходила перед толпой, но в общем характер ее сохранен с возможной точностью.
— Я жду честного и прямого ответа, - заявил во время дальнейшего разговора с Деникиным Сидорин. - Все время вы обманывали меня. Я не получал ориентировок и только прибыв в Новороссийск узнал, что в отношении нас совершено такое гнусное преступление.
Здесь снова в разговор вмешался Хольман, который отвел Сидорина в сторону и сказал:
— Я еду к адмиралу (начальнику английской эскадры, стоявшей в Новороссийске на рейде), переговорю с ним, и мы будем грузить ваши части на военные суда. Потерпите пятнадцать минут.
Хольман уехал. Вопрос о погрузке пока оставался неразрешенным.
В шестом часу вечера погрузился на пароход “Цесаревич Георгий” донской штаб. На этом же пароходе эвакуировался штаб Деникина и донского атамана.
Тем временем прибыл транспорт “Николай”, который причалил к пристани у цементного завода. Так как, согласно записке Деникина, каждый приходящий пароход должен был быть предоставлен Донской армии, то к транспорту была вызвана дивизия генерала Коноводова, но туда же прибыли уцелевшие части Алексеевской дивизии. Выяснилось, что Деникин приказал грузить алексеевцев, а не донцов. Донцы уже начали погрузку, и казалось, что заставить их уйти с парохода нельзя было никакими средствами. Однако Хольман, которому Деникин сказал, что транспорт этот предоставлен для добровольцев-алексеевцев, видя погрузку донцов, запротестовал и стал кричать:
— Если не прекратится погрузка донцов, сейчас же прикажу всем судам уходить отсюда!
Это заставило Сидорина отдать приказание о прекращении погрузки, что и было беспрекословно исполнено. Потом Сидорин принес Хольману записку Деникина о том, что все приходящие пароходы предоставлялись для Донской армии, и сказал Хольману:
— Это возмутительное поведение со стороны главнокомандующего говорит само за себя...
Хольман согласился с доводами Сидорина и разрешил погрузку донцов. Пароход был занят наполовину алексеевцами, наполовину донцами.
Приближался конец новороссийской трагедии.
Стемнело. Над Новороссийском, там, где вокзал, разгорается темно-багровое зарево. Это пылают нефтяные склады. Черные тучи покрывают небо. Близко, совсем близко от Новороссийска на высотах идет бой. Ухнуло одно, другое орудие. Глухой отзвук взрыва донесся со стороны пылающего зарева. Новороссийская трагедия заканчивалась. Ночь окутывала своим черным покровом клокочущий, переполненный панически настроенными людьми и лошадьми, доживавший свои последние часы город...
Но агония продолжалась и ночью. Исполняя свое обещание, Хольман разыскал в толпе, скопившейся на пристани, Сидорина, Карпова, бывших с ними офицеров и сообщил, что когда он переговорил с адмиралом, то решено было сажать донцов на военные корабли. Это спасло многих и многих.
В темноте началась спешная погрузка. Несколько миноносцев грузили донские части, заставляя бросать седла и даже оружие. На берегу оставались винтовки, пулеметы. На военные корабли совершенно не принимали вооруженных людей. Грузились донские части и на транспорты, которые подошли и стали на рейде. И все же оказалось, что всех частей, находившихся на берегу, погрузить нельзя. 1-я дивизия, Сводно-партизанская дивизия, часть 7-й конной бригады были направлены на Геленджик с тем, чтобы они пробились туда, и им было обещано немедленное прибытие миноносцев для погрузки на них. Части так и сделали.
Новороссийск уже занимался большевиками. С рейда уходили последние суда. Уже уехал на английском миноносце Деникин. Уезжал утром 14 марта на “Пегасе” и Сидорин. На прощание генерал Хольман условился с ним и руководившим погрузкой в Новороссийске генералом Карповым о том, чтобы немедленно по прибытии в Феодосию с английскими миноносцами возвратиться в Геленджик для спасения оставшихся.
Действительно, через час после прибытия “Пегаса” в восьмом часу утра 15 марта на корабль явился генерал Хольман, который предложил командующему Донской армией немедленно выехать на побережье к Геленджику. Предварительно Хольман, Сидорин и Карпов подъехали к кораблю “Цесаревич Георгий”, где жил Деникин, которому Хольман и сообщил о предстоящей поездке.
— На побережье пойдут английский крейсер и несколько миноносцев, - сообщил Деникину Хольман, - но необходимо, чтобы с английскими кораблями пошел один из русских миноносцев. Таково желание адмирала Сеймура. (По-видимому, англичане, не считавшие себя в состоянии войны с Советской Россией, хотели замаскироваться русским миноносцем.) В ответ на это главнокомандующий поблагодарил Хольмана за то, что пойдут английские суда, которые, несомненно, принесут в Геленджике огромную пользу. Русский миноносец, по словам Деникина, выйти в море с английскими судами никоим образом не может.
С “Цесаревича Георгия” Сидорин вместе с Хольманом и генералом Карповым пешком отправились на “Ганновер”, с которого они хотели пробраться на английский крейсер. Попросив обождать своих спутников на “Ганновере”, Хольман отправился к адмиралу Сеймуру.
Сидя на “Ганновере”, Сидорин увидел на пристани группу офицеров во главе с начальником 1-й дивизии генералом Дьяковым.
По словам Дьякова, согласно полученному им распоряжению, части 1-й дивизии выступили из Новороссийска в 11 часов утра 13 марта.
Противник был встречен недалеко от Новороссийска у Кабардинки. Вместе с 1-й дивизией действовал Черкесский полк. От “зеленых” черкесы узнали, что к Кабардинке подошла со стороны Геленджика, занятого советской пехотной дивизией, бригада большевиков. Сначала бой был удачен. Кабардинка была занята казаками. Но черкесы скоро убежали из Кабардинки и внесли этим значительное расстройство. Часть партизанской дивизии, полк дроздовцев, который не успел погрузиться, стали отходить. К району боя в это время подошел русский миноносец. Находившиеся на берегу, видя, что они со всех сторон окружаются красными, стали кричать, махать руками, чтобы установить с миноносцем связь. Однако, дав четыре выстрела, миноносец повернулся и ушел. Потом подошли французские миноносцы. Тогда Дьяков вместе с командирами полков, в том числе и Дроздовского, на шлюпках, которые были спущены с миноносцев, поехали туда, чтобы переговорить с французами о том, нельзя ли помочь находившимся на берегу частям и погрузить их. Французы встретили начальников частей очень любезно и начали на шлюпках перевозить сначала черкесов, потом офицеров, а потом понемногу и казаков. Так как погрузка шла чрезвычайно медленно, то черкесы возмутились и стали открывать по своим же шлюпкам, перевозившим казаков, огонь. К этому времени к берегу стала подходить Донская конная бригада Старикова, в которой начались митинги на тему об обратном возвращении в Новороссийск, о выдаче офицеров и т. д. Несмотря на желание командиров частей возвратиться на берег, французы их не пустили и, после того как с берега открылась стрельба, когда казаки и офицеры стали бросаться в море, стараясь доплыть до миноносцев, прекратили посадку, захвативши около ста человек раненых, преимущественно черкесов и дроздовцев, а также командиров полков, начальника дивизии и часть офицеров, а затем отправились в Феодосию. Части, оставшиеся на берегу, стали прорываться горными проходами на Шапсугскую, чтобы оттуда идти в Грузию. Ввиду невероятной трудности этой задачи части стали переходить к “зеленым” и сдаваться большевикам.
Дьяков доложил Сидорину, что он и другие офицеры явились на французский миноносец с просьбой ехать к Геленджику и прилегающим пунктам и спасти тех, кто уцелел.
— Я сам еду туда с Хольманом, - заявил Сидорин, - постараюсь взять вас, чтобы отвезти к своим частям.
Около 12 часов Хольман наконец вернулся от Сеймура и передал, что адмирал заявил: “Раз русские военные суда стоят в Феодосии и не желают выходить в море, не желают помогать своим же, то я также не пошлю в море ни одного английского миноносца”.
— Поезжайте к Деникину, - возбужденно уговаривал Хольман Сидорина, - настаивайте, чтобы он немедленно повесил Тихменева (капитана 1-го ранга, начальника морских сил, находившихся в Феодосии), требуйте, чтобы русский миноносец немедленно вышел в море. Они говорят, что угля нет. Это неправда. Угля сколько угодно...

— Но вы сами видите, как меня встречает Деникин, - возразил Сидорин. - После Новороссийска он встретил меня в высшей степени холодно. Неужели вы думаете, что мои слова будут иметь для него хоть какое-нибудь значение, раз вы, генерал Хольман, не имели никакого успеха. Что же касается повешения Тихменева, то отдайте его в мое распоряжение и я доставлю вам это удовольствие через две минуты. Я вижу, что люди гибнут, никто о них не желает заботиться. Главнокомандующий же здесь, в Феодосии, делает то же, что делал он и в Новороссийске. Очень благодарен вам, генерал, за вашу заботу о нас. Ну что же делать... Значит, не судьба...
Видя глубокое волнение Сидорина, Хольман заявил:
— Я опять сейчас поеду к Сеймуру...
Действительно, он опять поехал. Сидорин и офицеры продолжали ждать результатов. От Сеймура Хольман поехал снова к Деникину. Вернулся в два часа и говорит:
— Вешайте Тихменева... Возмутительно индифферентное отношение! Утверждает, что с машиной на миноносце неладно...
Сильно сконфужен был Хольман тем, что не удалось ему настоять на своем перед Сеймуром, который категорически заявил:
—Пусть хоть один русский миноносец выйдет в море, тогда все английские суда пойдут.
Сидорин еще раз поблагодарил Хольмана:
— Не судьба, значит, - и потом сказал ожидавшему его Дьякову:
— Наша поездка не удалась. Никакие суда к побережью не пойдут, а потому ехать нельзя. Идите к главнокомандующему, настаивайте, чтобы пошел русский миноносец, а я больше ничего не могу сделать.
Дьяков отправился к Деникину, и наконец в 9 часов вечера получено было согласие на выступление миноносца. Однако капитан 1-го ранга Тихменев, к которому отправились донцы, снова заявил, что миноносец в море не пойдет, потому что ему, Тихменеву, не дали команды для погрузки угля суток на двое, на трое. На миноносце же такой запас, что он может простоять у берегов побережья часов 6—7.
Дьяков тогда заявил:
— Пусть простоит хоть час, хоть два, чтобы спасти хоть офицеров...
Но и на это от Тихменева был получен ответ:
— Нет, миноносец не пойдет.
Тогда ночью Сидорин снова обратился к Деникину, и в 11 часов от главнокомандующего была получена записка с приказанием миноносцу немедленно выйти в море.
В ночь на 16 марта миноносец вышел. 16 марта Дьяков вернулся обратно и сообщил, что они подобрали 32 человека раненых, преимущественно дроздовцев, которые и показали, что Атаманский полк и остальные ушли частью к “зеленым”, частью в горы, стараясь пробраться горными тропинками. То же сделала и Сводно-партизанская дивизия, большая часть которой рассеялась.
Так погибли части Донской армии и остатки Добровольческого корпуса. Чтобы закончить эту главу и дать последние пояснения для характеристики обстановки, в которой происходила сдача Новороссийска, я приведу заключительную часть рапорта начальника донской Сводно-партизанской дивизии:
“Во имя долга перед погибшими, преданными офицерами и войсками, для удовлетворения возмущенных, случайно уцелевших чинов дивизии, - пишет он, -считаю необходимым в заключение отметить, что спешная, постыдная погрузка 13 марта не вызывалась реальной обстановкой на фронте, которая мне как отходившему последним была очевидна. Никаких значительных сил у Раевки не наступало, ибо в 14 часов (в 2 часа дня) 13 марта никого, кроме разъездов, у Владимировки не было. Что же касается деревни Борисовки, то она была весьма слабо занята двумя-тремя эскадронами и четырьмя ротами. Образ действий противника в этом районе делал основание предполагать, что там были всего лишь "зеленые". Таким образом, при наличии хотя бы слабой попытки к управлению со стороны генерала Кутепова или Барбовича ничего не стоило бы удержать Новороссийск еще два-три дня, указав только линию арьергардных боев и участки для тех частей, которые все равно не имели транспортных средств. К сожалению, ни генерал Кутепов, ни генерал Барбович не только не искали связи со своими частями, но даже увернулись от меня, так как ни тот, ни другой не ответили, кто у меня справа и слева и какой план действий ими намечен. В результате управление из рук генерала Кутепова было передано генералу Барбовичу, который передал его начальнику Корниловской дивизии, а последний - своему командиру полка, который не желал иметь ни с кем связи и, избрав себе благую часть - движение по полотну железной дороги вместе с бронепоездами, менее всего был занят прикрытием Новороссийска с северо-запада, как значилось в директиве.
Если по условиям обстановки вызывалась необходимость пожертвовать Сводно-партизанской дивизией как арьергардом, выиграть время и погрузить прочие части армии, то неужели допустимо не поставить об этом в известность начальника этого арьергарда? Неужели допустимо не дать ему ясной и определенной задачи? Насколько мне известно, ни военная история, ни тактика не рекомендуют применять обман начальника арьергарда. Между тем, не будь этого обмана, то есть знай я, что судов для дивизии нет, я остался бы с дивизией в Кирилловке и, безусловно, продержался бы весь день 14 марта, если при мне остались бы бронепоезда. Наконец, самый факт обмана в бою, то есть заведомое сокрытие боевой обстановки со стороны старшего начальника, действует на обманутую часть настолько разлагающим образом, что вести ее еще раз в бой и ждать успеха едва ли будет разумно...”.
Г. Н. Раковский "Во стане Белых".

Write a comment